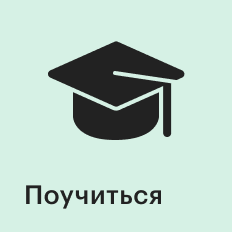Неофольклор: как деревенское стало символом свободы и изменило моду
. От крестьянских сарафанов до косынок и ручной вышивкиКак неофольклор стал символом свободы и почему деревенский стиль изменил моду

Платок Kokosha Studio. Платье Александра Георгиева. Сумка Wish Line
В течение последних лет модные циклы все чаще обращаются к «деревенскому» — но не в романтическом духе давно привычного нам дачного шика. На смену пасторальным принтам и милым хлопковым платьям пришло что-то иное: неофольклор.
Это направление, в котором народное звучит не как стилизация, а как культурное высказывание — оно отдалено от невероятно романтизированного деревенского флера из реклам глянца начала нулевых и транслирует обращение к глубинным кодам: локальности, ручной работе и независимости от центров власти. Все то, что было вытеснено индустриализацией, вновь оказывается в центре внимания — но с поправкой на современные тревоги, запрос на устойчивость и переосмысление идентичности.
Из рустикальной пасторали в осмысленный код
Чтобы понять, чем неофольклор отличается от своего пока более известного «предка» — рустикального шика, нужно вернуться к истокам.
Пастораль, ставшая популярной в десятых, была во многом фантазией на тему деревенской жизни: белоснежные хлопковые платья, пейзажные фото с полями и животными в лукбуках, плетеные корзины и обязательные цветы. Роскошные платья в пол со спущенными плечами и мягкими корсетами прозвали «платьями доярки», однако понять, что этот образ был утопичным, умиротворяющим, но искусственным, было очень просто. За пасторальными луками редко стояло знание или уважение к реальному быту, трудовой культуре или символике крестьянской одежды. Так что эстетика погасла так же быстро. как и вспыхнула: она была слишком нарочитой.
Рубаха Masha Andrianova
Неофольклор может напоминать пастораль, но стиль предлагает обратный вектор: он не представляет деревню гламурной, а обращается к ней как к источнику силы, устойчивости и независимости. Здесь важны исторический контекст, локальная принадлежность, ремесленные практики. И хотя это может принимать форму сарафана, платка или льняной рубахи, смысл уже другой: не эстетизация бедности или утопии, а возвращение к корням как выбор.
Сумка Wish Line
В эпоху интернета неофольклор возвращает моду к ее корням — как выражению принадлежности, уважения, личной истории. Он не только собирает архетипы, но и создает новые: городская девушка в косынке и вязаной юбке уже не иронизирует над деревней — она говорит о ней всерьез.
Символы неофольклора
Мода не музей, но она может быть архивом. Неофольклор собирает в себе культурные коды разных регионов, но трактует их с уважением и вниманием к происхождению. Эта эстетика может быть очень разной, ведь все зависит от исторической культуры местности. И, например, в Индии или Таиланде неофольклор будет иным, чем в Европе (да и там есть различия в зависимости от страны).
Платье Kokosha Studio
В России с символами определиться несложно, и их элементы все больше проникают в наши гардеробы.
- Крестьянские сарафаны и рубахи — не как наряд «на праздник Ивана Купалы», а как утилитарная, устойчивая и функциональная одежда, сшитая по выкройкам «без отходов», удобная в носке и легко приспосабливаемая к разным фигурам. Отсылки к этому элементу сегодня могут терять главный посыл — одежды как продуманной конструкции, но сохраняют внешний вид.
- Платки и косынки — как элемент повседневного быта и защиты, символ женской автономии. Современные модницы сочетают их с очками в духе старого кино, но контекст не меняется: это не кокетство, а жест уверенности.
- Вышивка и ручная работа — больше не декоративное украшение, а язык. Народные символы, швы, орнаменты используются как персональный манифест — и часто вышиваются вручную, в противовес быстрой серийной моде.
Платье Александра Георгиева
- Обувь и аксессуары — от лаптей до вязаных сумок — возвращаются, но тоже не как карнавал, а как способ подарить реальную жизнь локальному наследию. Даже галоши, валенки или войлочные тапочки появляются в коллекциях, и порой совсем не в шутку.
Визуальные коды неофольклора
Чтобы понять, как выглядит неофольклор, важно разложить его визуальный язык на составляющие.
Силуэты
- Прямой, свободный крой — как у крестьянских рубах, сарафанов, балахонов.
- Многослойность — комбинация нижней рубахи, передника, жилета или фартука или даже подштанники.
- Скругленные линии, отсутствие четкого подчеркивания талии — тело не сексуализировано, а защищено.
Ткани и текстуры
- Натуральные материалы: лен, хлопок, шерсть, сукно, войлок.
- Фактура грубая, но живая — видно, что ткань «дышит» и двигается, как домотканое полотно.
- Ручная обработка — вышивка, штопка, видимые швы, акцент на несовершенстве как достоинстве.
Цветовая палитра
- Землистые оттенки: охра, глина, темная зелень, суровый лен.
- Избегание кислотных и искусственных цветов — вместо этого краски на основе растений, патины, пигментов.
- Иногда яркие элементы, но в пределах локального орнамента или поэтики (например, красно-белая вышивка).
Орнамент и знаки
- Геометрические и символические мотивы (кресты, ромбы, птицы, деревья).
- Повторы, ритмы, встроенные в структуру одежды, — не как принт, а как язык.
- Часто асимметричное расположение или «обрывки» символов — нарочитая незавершенность.
Платок Kokosha Studio
Аксессуары и детали
- Косынки, шапочки, береты, повязки — как отсылка к жизни вне города.
- Обувь — грубая, но удобная: кожаные сандалии, валяные тапочки, ботинки.
- Украшения — как из детства или деревни: деревянные, тканевые, бисерные, плетеные.
Почему это стало важно именно сейчас
Для каждого тренда есть своя логичная эпоха. Возврат к деревенскому — это жест сопротивления, так что явление не только эстетическое, но и социальное. Неофольклор отвечает сразу на несколько запросов времени.
Во-первых, мы устали от универсальности. Большие города, цифровая мода и глобализация породили ощущение стерильности и повторяемости. Аутентичные локальные формы и образы сегодня стали антидотом обезличиванию. Сюда же усталость от капиталистической глянцевости — отсылки к деревне возвращаются как протест против давления культуры потребления. Если раньше балаклава была символом стритвира, теперь ее сменила вязаная шапочка бабушки — антипод хайпа.
Во-вторых, важно сказать о новой телесности. В неофольклоре тело не представляется «улучшенным» или «причесанным». Оно защищенное, сильное, приспособленное к реальности. Отсюда многослойность, плотные ткани, отказ от обнажения ради тренда.
Кроме этого, есть запрос на устойчивость. Ремесло, медленный цикл, натуральные ткани — все это не просто красиво, но и экологично. В эпоху климатических тревог мода не может игнорировать вопросы производства.
Как носить такое без намека на косплей
Неофольклор сложен тем, что легко скатиться в стилизацию. Важно помнить: это не костюм, а образ мышления. Вот несколько способов встроить его в гардероб деликатно и органично.
- Выбирайте один элемент (например, льняную рубашку, длинную юбку или вышитую сумку) и сочетайте с современными базовыми вещами: пиджаком, кроссовками, прямыми джинсами.
- Обращайте внимание на технику исполнения: ручной труд, традиционные материалы, устойчивое производство — это часть смысла.
- Не бойтесь спокойных силуэтов — одежды, которая не облегает, а обволакивает. Это одновременно и свобода тела, и культурный контекст.
- Нужно быть аккуратнее с «фольклорными наборами» из массмаркета, когда за ними нет контекста, — иногда стоит обратить внимание на вещь от локального бренда, который работает с наследием осознанно.
Кто делает неофольклор и сколько это стоит
Неофольклор — это не просто про «русское» или «славянское», как может показаться в СНГ, это глобальное течение, которое возникает в самых разных частях мира как ответ на усталость от унификации. Однако локальный контекст остается ключевым — именно он определяет язык, форму и тональность.
Одежду, будто со страниц детских сказок, можно примерить в бренде Masha Andrianova. Выпускница парижской школы моды Atelier Chardon Savard вернулась в Россию, чтобы обыгрывать старинные мотивы. Марка выпускает рубахи, платья и даже порты. Блузка-рубаха со сборкой на груди изо льна с серебряной фурнитурой обойдется в 33 тыс. руб., а короткие штаны из шерсти — 22,5 тыс. руб.
Порты Masha Andrianova
Нежные и женственные платья с вышивкой и кружевом делает Александра Георгиева совместно с домом «Крестецкая строчка». Правда, эти наряды на грани с люксом: цены на платья колеблются в диапазоне от 120 тыс. до 300 тыс. руб.
Немного восточные мотивы можно найти в Kokosha studio: кашемировая шаль стоит 43 тыс. руб., а шелковое платье — 63 тыс. руб.
Платье Александра Георгиева
Найти отсылки к неофольклору можно и в брендах массмаркета или на маркетплейсах. Например, рубашка с перфорацией от Befree сейчас стоит 2245 руб., кокошник-ободок от «Русской короны» — от 900 руб., а сумка-корзина Wish Line — 3200 руб.
Рубашка Befree
Кокошник-ободок Русская Корона
За рубежом фольклорные мотивы тоже не игнорируются. Вдохновляться можно Bode — это один из главных представителей «медленной моды» с неофольклорным лицом. Основательница Эмили Боде работает с архивными тканями и ручным шитьем, превращая память о вещах в предметы коллекционной моды. Еще — Simone Rocha, хотя стиль бренда часто ассоциируется с викторианством и готикой, в нем регулярно появляются отсылки к ирландским традициям, кружевам ручной работы и сельским формам одежды. Eckhaus Latta и Collina Strada делают ставку на текстуры, вышивку и вязание, добавляя к фольклору постироничный урбанистический контекст. А еще один культурный угол зрения можно найти у Yohji Yamamoto или Comme des Garçons: это японский неофольклор с уважением к одежде как философии, а не тренду.
Почему музыка тоже обращается к фольклору — особенно в России
Важно отметить, что неофольклор — это не только про моду и одежду, а гораздо более широкая культурная волна, в которой стирается грань между современностью и архаикой. И музыка здесь не просто сопровождение, а мощнейший индикатор этого движения. Особенно ярко это чувствуется в российском контексте.
В последние годы на российской музыкальной сцене наблюдается рост интереса к фольклору, но не в академическом смысле (как у фольклористов и ансамблей), а как к живому культурному слою, который можно и нужно переосмыслять. Так что популярность Кадышевой взмыла не просто так: песни из детства миллениалов наконец-то оказались очень в тему.
Сказался и поиск корней в условиях обнуления будущего, когда горизонт планирования стремительно исчезает, взгляд назад становится интуитивной стратегией, а песни, которые звучали у бабушки в доме, вдруг кажутся более актуальными, чем мировые чарты, и переосмысление культурной идентичности — молодое поколение все чаще смотрит на фольклор не как на архаичную скуку из школьного учебника, а как на слоистый архив, в котором можно найти смыслы, ироничность, трагизм, протест и утешение.