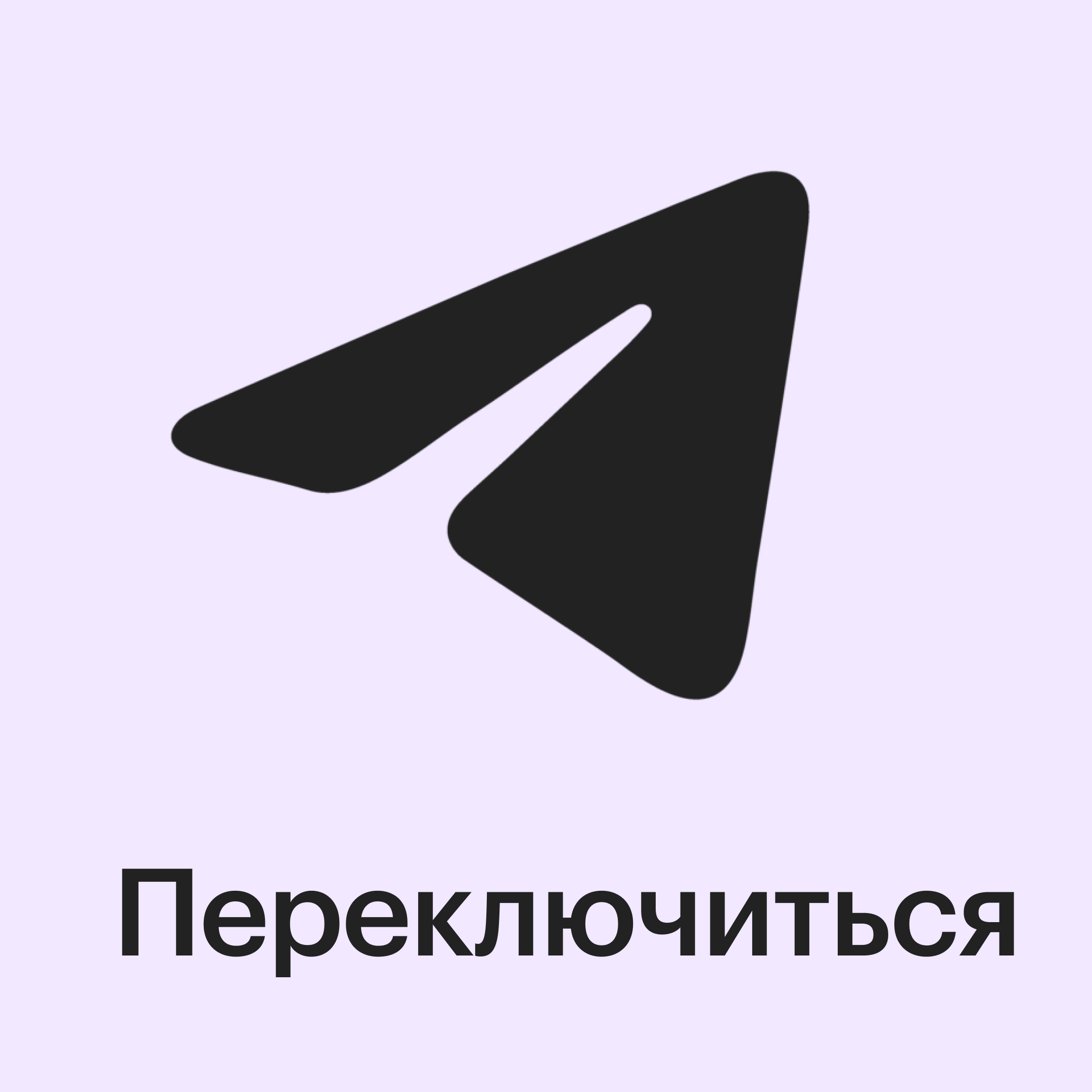Как зоопарки превращаются в подобие Спарты для детенышей редких животных
. Эксперты объяснили, как устроен процесс сохранения видов в неволе
Два амурских тигренка в Кёльнском зоопарке в апреле 2024 года
Драматичные истории из европейских зоопарков в последние годы часто потрясают общественность. Очередные громкие новости пришли в конце лета из Лейпцига: там сотрудники усыпили трех детенышей краснокнижного амурского тигра, от которых отказалась молодая мать по кличке Юшка.
Неужели тигры никому не нужны? Почему их не выкормили люди? Как в целом устроена жизнь редких животных в неволе? РБК Life разбирается вместе с экспертами.
Содержание
Для чего вообще нужны зоопарки
Со стороны может показаться, что зоопарк — это что-то вроде живого музея на потеху публике, место, в котором дети и взрослые могут увидеть экзотических диких животных. Но это концепция скорее зверинцев древности или современных передвижных зоопарков, известных кошмарными условиями содержания животных.
Настоящие же крупные зоопарки вроде Московского, Калининградского или того же Лейпцигского — совершенно другие учреждения. В таком виде они появились чуть больше ста лет назад, когда стало очевидно, что урбанизация, технический прогресс, войны и прирост человеческого населения ставят под угрозу множество видов животных. Сохранение тех, кого еще можно сохранить, стало одной из главных функций зоопарков нового времени.
Сейчас исключительно или почти исключительно в неволе живут сотни видов редких животных, в том числе довольно крупные млекопитающие вроде суматранского носорога, оленя Давида, китайского аллигатора и южно-китайского тигра. Последний еще в середине прошлого века насчитывал несколько тысяч особей в дикой природе, но не ужился с Мао Цзэдуном и его «Большим скачком». Сейчас, по всей видимости, южно-китайский тигр живет и размножается (причем с большим трудом) только в зоопарках.
Южно-китайский тигр в сафари-парке Чимелонг в Гуанчжоу, провинция Гуандун на юге Китая, 25 февраля 2021 года
История оленя Давида более успешна. Пройдя через игольное ушко в полтора десятка особей, популяция постепенно стала восстанавливаться: сейчас насчитывается несколько тысяч оленей, часть из них интродуцирована в заповедник возле Пекина, где они живут практически на воле. И это во многом заслуга именно зоопарков: последние дикие олени Давида погибли во время Боксерского восстания в Китае (1899–1901), вид выжил благодаря особям, вывезенным в Европу во второй половине XIX века.
Олень Давида в Яньчэне, провинция Цзянсу на востоке Китая, 4 мая 2018 года
Другие редкие виды все еще живут в естественных местах обитания, но, во-первых, их популяция невелика, во-вторых, ей все равно угрожает человеческое присутствие.
Амурский тигр в этом смысле является вполне показательным примером. Он как будто бы чувствует себя неплохо на Дальнем Востоке России и в КНР, однако в действительности его вольная популяция насчитывает всего несколько сотен особей. Формально это достаточно много, чтобы говорить об устранении угрозы его вымирания, но в реальности до полного исчезновения всего один шаг. Спровоцировать его может, например, неожиданная эпидемия или стихийное бедствие.
Амурский тигр в вольере Зоопарка Вильгельма в Штутгарте, 16 июля 2025 года
«В современных зоопарках одной из основных задач является сохранение и размножение редких видов животных. Несмотря на ужесточение российского законодательства, браконьерство все равно существует. Но основная проблема — сокращение ареалов обитания животных. Леса вырубаются под новые дороги, линии электропередачи, жилье. И может случиться так, что какой-то природный катаклизм (например, пожары, периодически бушующие на Дальнем Востоке или в Австралии) приведет к тому, что существование конкретного вида откажется под угрозой полного исчезновения (как случилось с лошадью Пржевальского). И тогда зоопарки могут выступить в роли своего рода Ноева ковчега, сохраняющего видовое разнообразие в условиях неволи. Важно, чтобы природная популяция в таком случае пополнялась генетически здоровым потомством».
Светлана Соколова, директор Калининградского зоопарка
Как виды сохраняются в зоопарках
Сохранение видов в условиях неволи — крайне непростой процесс, требующий много внимания, а часто и жесткости от руководства зоопарков. Проблем здесь масса: от нежелания животных размножаться в неволе до инбридинга — близкородственного скрещивания, которое угрожает сохранению вида не меньше браконьеров.
Естественно, если вид сохранился в количестве нескольких сотен, а то и десятков особей, проблема инбридинга становится особенно острой. Борьба с таким скрещиванием была одной из целей запуска в 1974 году Международной системы инвентаризации видов, к которой присоединились десятки европейских и североамериканских зоопарков. Поначалу все записи велись на бумажных носителях, но сейчас организация (она переименована в Species360) предоставляет своим участникам программное обеспечение ZIMS, которое позволяет сотням зоопарков из десятков стран координировать усилия по сохранению видов.
Тигрята-близнецы Акина (слева) и Леня играют в Лейпцигском зоопарке, Германия, 25 мая 2017 года
С появлением ZIMS зоопарки получили возможность отслеживать генетические линии и не содержать родственников в одном вольере, чтобы избежать инбридинга.
«Зоопарки уже давно обмениваются животными, и важно при формировании размножающихся пар не допустить близкородственного скрещивания. Для этого нужно знать происхождение животного и иметь результаты генетического исследования. Помимо этого, мы должны учитывать возможности обеспечения качественного содержания животных. Если таких условий нет, лучше животное не привозить.
Вот, у нас есть, например, лев. Мы никогда не возьмем к нему в пару животное, если не будем знать его происхождение или он будет родственником нашему. Потому что мы получим инбридинг — неполноценное, болезненное, а то и нежизнеспособное потомство. Или для детенышей необходимо будет строить дополнительный вольер (если группа будет постоянно увеличиваться). Для зоопарков это ненужная ситуация. Лучше держать одну группу животных, контролируя их размножение».
Светлана Соколова, директор Калининградского зоопарка
Но в случае с Лейпцигским зоопарком проблема, вероятно, даже не в перенаселении европейских зоопарков (с российскими обмен приостановлен с 2022 года), а в нежелании выращивать неприспособленное и в каком-то смысле неполноценное потомство редкого вида. В теории возвращение таких тигров в дикие или даже полудикие условия попросту невозможно, по этой логике не нужны они и зоопаркам.
«У европейских зоопарков очень прагматичный подход. Цель сохранения редких видов у них может преобладать над целью сохранения отдельных особей. Все зависит от конкретных зоопарков и решений руководителей.
Если мать не выкармливает тигрят, значит, с этими тигрятами может быть что-то не так (во всяком случае, так часто бывает). Конечно, сотрудники могут выкормить их.
Но если бы мы говорили о групповых вариантах (например, у обезьян), то такие животные-«искусственники» очень часто оказываются изгоями, потому что они не умеют вести себя в группе, и зоопаркам приходится либо содержать их всю жизнь в одиночестве, либо формировать пары и надеяться, что это нарушенное поведение не закрепится дальше. Это очень непростой вопрос, здесь абсолютно понятное человеческое сострадание к животным борется у работников зоопарков с необходимостью принимать непопулярные управленческие решения».
Светлана Соколова, директор Калининградского зоопарка
При этом в России детенышей, от которых отказываются матери, нередко выкармливают сотрудники. Так было, например, с пумами в Екатеринбурге, кафрскими рогатыми воронами в Москве или кинкажу в Новосибирске. Правда, пумы и кинкажу не относятся к редким видам, а кафрские вороны — птицы, их реинтродукция — отдельный разговор.
Кафрский рогатый ворон, Национальный парк Крюгера, 2018 год
Насколько обоснована такая практика
Зоозащитники выступают резко против эвтаназии здоровых животных, а часто и против зоопарков в целом. В случае Лейпцига первой отреагировала международная организация PETA, которая сразу же заявила, что постарается инициировать уголовное дело в отношении зоопарка. В PETA уверены: такие проблемы возникают только в неволе, а в дикой природе мать всегда принимает свое потомство.
Руководитель организации Петер Хеффкен заявил, что PETA требует немедленного прекращения бессмысленных программ разведения, потому что «сибирским тиграм нечего искать в Лейпциге». По его словам, разведение и содержание тигров в зоопарках — тупиковый путь с точки зрения сохранения вида, поскольку животных в любом случае нельзя выпустить на волю.
Сибирский тигр играет с трехмесячным детенышем в парке Серенгети
Реинтродукция хищников, тем более таких крупных, действительно сложная задача с очень небольшим количеством позитивных примеров. Многие слышали хрестоматийную историю про волков и Йеллоустонский национальный парк в Колорадо. Там в 1995 году выпустили 14 волков, отловленных в Канаде. Хищники существенно повлияли на экосистему: сократилась популяция лосей, растения стали чувствовать себя лучше, их корни укрепили берега рек, предотвращая эрозию почв, на территорию вернулись бобры и разные виды водоплавающих птиц.
Но тигр, как известно, не волк, и по-настоящему успешных историй реинтродукции крупных кошек история пока не знает.
С 2006 года в России работает программа возвращения в живую природу переднеазиатского леопарда, однако поставленных целей она пока не добилась: хищники на воле погибают и не дают потомства, их численность еще критически мала. «Что касается того, сколько леопардов на Центральном Кавказе сейчас… Мы предполагаем, что их около семи. Этого достаточно для формирования основы размножающейся группировки», — сообщала в 2025 году Мадина Сланова, координатор программы восстановления леопарда в РСО-Алания.
Переднеазиатский леопард в зоопарке Штутгарта
Пытались выпускать в природу и амурских тигров, но тоже не всегда удачно. Например, один из «президентской пятерки» постоянно нападал на домашний скот и собак и в итоге оказался в зоопарке Ростова-на-Дону. Судьба другого неизвестна, еще трое вроде бы прижились в тайге.
Правда, все эти тигры только проходили реабилитацию в неволе, родились они в дикой природе, где их, вопреки убеждениям PETA, оставила родная мать. А вот выкормили тигрят люди.
«В природу хищников практически не вернуть, это сложный и неблагодарный процесс. Животное, которое уже человека не боится, будет очень опасным. С травоядными все проще. Олень людей есть не пойдет, а вот тигр и медведь легко пойдут. Это очень сложная, очень дорогостоящая программа. К тому же о каком естественном поведении вообще может идти речь? Понятно, что в зоопарке стремятся дать возможность проявлять естественное поведение, но естественную среду обитания амурского тигра в искусственных условиях, а тем более в центре Лейпцига, создать невозможно. Это животное не охотится самостоятельно, оно не выживет в естественных условиях своей среды обитания».
Яна Олейник, президент хосписа «Дом тигра»
Что с этой ситуацией делать
«Дом тигра», которым руководит Яна Олейник, — это благотворительный приют для крупных кошек под Петербургом. В нем живут тигры, пумы, леопарды и другие представители семейства крупных кошачьих, оказавшиеся ненужными частным зоопаркам или владельцам. В основном это метисы. Амурских тигров или переднеазиатских леопардов здесь, конечно, нет, но даже «дворняжкам кошачьего мира» нужна помощь и поддержка. Даже их Олейник и ее коллеги спасают от смерти.
«Я не могу сказать, что выкормить тигренка так же просто, как и любого другого новорожденного младенца, неважно, щенка, котенка. Это труд. Но существуют смеси, из которых можно собрать молоко для любого вида животных. Да, это трудозатратно, ресурсозатратно, но это не космос как дорого, не космос как сложно, абсолютно реально, — объясняет она. — Ну а если вам не нужно потомство, контрацепцию никто не отменял, стерилизуйте животных, хотя бы временно, такая возможность существует. Всегда есть более цивилизованные решения, чем убивать уже родившихся малышей».
Львята в хосписе для диких животных «Дом тигра» около поселка Кирпичный в Выборгском районе Ленинградской области, 2025 год
Контрацепция для животных, даже временная, действительно существует. Самый распространенный метод — это гормональные импланты, которые вживляют крупным животным под кожу. Они медленно выделяют синтетические гормоны, подавляют овуляцию у самок или снижают производство спермы у самцов. После удаления импланта или прекращения его действия репродуктивная функция восстанавливается.
Такую контрацепцию применяют и в Европе, и в России, но в случае с редкими видами все упирается в ключевую задачу — сохранение генофонда.
«С одной стороны, рождаемость можно ограничить искусственно, но потом, когда возникает необходимость продолжить размножение животных, это будет непросто восстановить. Это может привести к непредсказуемым последствиям. То есть такие методы используют, но, как правило, для тех животных, которых не планируют размножать в принципе. Мы, например, вводим препараты самке бегемота, так как с самцом они единокровные брат и сестра», — объясняет Светлана Соколова и подчеркивает, что причину решения зоопарка в Лейпциге определить сложно, особенно не зная всех деталей.
Там утверждают, что потомство тигрицы Юшки они ждали и будут стремиться к тому, чтобы она родила снова, потому что ее дети ценны для генофонда амурских тигров. Но только в том случае, если вырастут в условиях, приближенных к дикой природе. Такой вот тупик. И немного Спарта.
Редакция РБК Life обратилась за комментариями к Московскому зоопарку, но к моменту выхода статьи они не были получены.